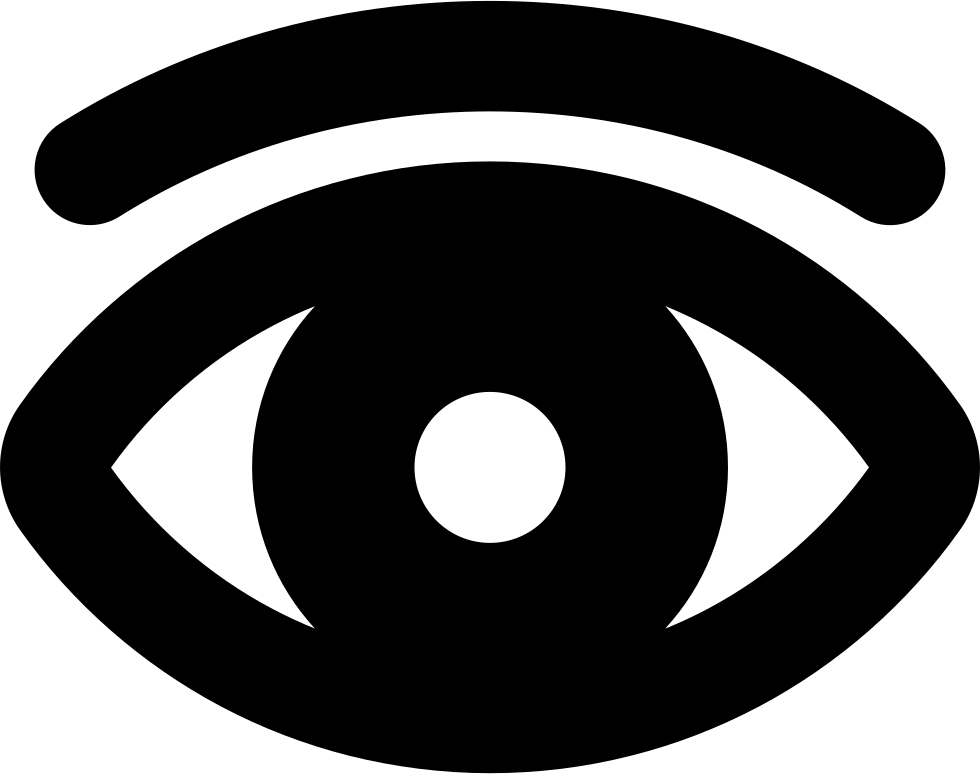
Геннадий Калинкин
Волжск, Республика Марий Эл
Апрель. Вербное воскресенье. Мама собирается на работу. Пропускать нельзя не потому, что бригадир, Николай Васильевич, будет ругать, просто она с детства привыкла к мысли, что земле нужны руки. Весной, потому что... Летом, потому что... Осенью, потому что... Я прошусь с мамой в поле, она отговаривает меня — очень далеко. Я пытаюсь разжалобить её, плачу, мама гладит меня по голове: «Не плачь, я тебе сейчас яичко сварю». Она варит мне яичко, чистит и ждёт, пока я съем. Зашла соседка Шура, у неё дочь Аня, моя ровесница, мы с ней дружим, потому что в посёлке детей нашего возраста больше нет, а у Ани есть брат Коля, ровесник моему брату Васе. Мама с тётей Шурой заторопились. На пороге мама оглянулась и сказала: «Ваня, не плачь, слушай Марусю». Они ушли.
Я вышел во двор, у сарая лежала собака. Отвязывать на день её было нельзя, она должна сторожить, а что сторожить? В посёлке восемнадцать дворов, и ни в одной хате не было замка, в дверь вставлялась палочка: это означало, что дома никого нет. Никому в голову не приходило выбросить палочку и войти в чужую хату. Сад, огород — другое дело. Я сам когда-то с Аней, Колей и Васей залезал в чужой сад и рвал такие же яблоки, какие росли в нашем саду, и огурец на чужой грядке вкуснее, чем такой же со своей собственной. Помаявшись ещё немного во дворе, я пошёл к Ане, у них я застал Колю и Васю. Они натаскали гильз, патронов и ещё чего то из погребка тёти Марфы: у неё там был целый склад ещё с войны. Из гильз молотками выбивали порох. Порох отсырел и не горел, и они ссыпали его в кучку под сарай на солнечную сторону, чтобы просох. «Вась, — обратился Коля к моему брату, — из этой штучки хорошая выйдет ручка», и он показал ржавую железку. У нас ручки делались из лозы, где-то находили мягкую жесть и прикрепляли наконечники. Настоящим заводским было только перо. Вася равнодушно посмотрел на ржавый предмет. «Идём, — позвал он, — арифметику делать одному неохота, а завтра в школу, ещё мама много чего наказала по хозяйству, да и огород надо помочь вскопать Марусе». Они побрели к нам, а я заметил ту самую ржавую железку в форме ручки и подумал, что Коля её забыл, поднял её, догнал ребят, отдал Коле. Марусе шёл семнадцатый год. Зимой она работала истопником в школе, летом — в поле и дома в огороде. Я побежал к ней. Она копала уже в конце огорода, где земля была ещё очень сырая, там было много всяких червей и жучков, я стал за ними наблюдать. У меня было зрение особой остроты: зимой из окна я видел, как в поле по снегу бегают белые зайцы. Никто не видел, а я видел, мама не могла с ходу попасть кончиком нитки в ушко иголки, чем дольше она не попадала, тем сильнее у неё слезились глаза, поэтому, когда она садилась шить, рядом устраивался я и вдевал нитку в иголку. Вдруг о лопату что то звякнуло и блеснуло на солнце. Это была стеклянная колбочка, наверное, от каких-нибудь лекарств. Никаких игрушек у меня в детстве не было, я играл с ржавыми гнутыми гвоздями, палочками, кусочками материи, а тут стеклянная игрушка. Я схватил её и побежал в хату, показать ребятам, вбежал в комнату… Мгновение… За это мгновение я успел увидеть брата Васю, склонившегося над задачником, а по другую сторону стола, полубоком ко мне, соседа Колю. Дальше взрыв, наверное, крик, вбежала Маруся. Я ползал по земляному полу, она схватила меня на руки, выскочила на улицу и положила на скамейку и тут дала рёву. Слышать её никто не мог: весь посёлок был в поле. Вася побежал за пять километров за мамой. Пока нашли бригадира, Николая Васильевича, у которого свободной лошади не было и ему пришлось брать из плуга.
Время шло. К вечеру мама, Маруся, Вася, я и Николай Васильевич приехали в районную больницу. Врача окулиста в больнице не было, нужно было отправлять в областной центр, в Курск, а пока меня с Васей положили в одну палату. Васе было жалко меня, он ухаживал за мной и когда я начинал плакать, то плакал вместе со мной. У него было опалено лицо, особенно правая щека, из уха текла кровь, его оглушило. Соседу оторвало три пальца левой руки, у меня вся голова и правая щека были в осколках, глаза закрыты. Через две недели на самолёте меня доставили в Курск. Врач, Аркадий Григорьевич Кроль, сказал, что если бы привезли сразу, то левый глаз можно было бы спасти полностью.
Три месяца я пролежал в больнице. Правый глаз удалили, а на левом, после нескольких операций, сохранилось остаточное зрение, я мог свободно передвигаться и даже читать, но недолго. Выписывая меня, Аркадий Григорьевич наказывал маме: «Бегать и прыгать нельзя, читать и писать нельзя минимум год, необходимо хорошее питание, иначе произойдёт отслойка сетчатки и тогда уже никто не поможет».
Маленькому мальчику исполнять рекомендации врача не так то просто, а точнее, совсем непросто. Через несколько лет отслойка сетчатки всё таки произошла. Сейчас, вспоминая детство, я прежде всего вспоминаю тот миг, когда, радостный, со стеклянной колбочкой вбежал в хату. Это был миг между прошлым и будущим, между ясным и солнечным прошлым и темнотой будущего. Нет, даже не так, слепота не бывает чёрной или серой. Как для глухих нет звука, так для слепых нет цвета.
Иван Холявченко
Журнал «Наша жизнь» № 4 (2014 г.)